В 2006/07 гг. я занимался на досуге первым своим блогом (еще в "уютной жэжэшечке"), чьей фишкой было конспектирование абсолютно всего мной прочитанного. Интересный опыт был. Однако же, перенося вкуснейшие отрывки из "Истории дипломатии" (1941) на АфтерШок, решил "запараллелить" их, так скажем, злобой дня. При этом – с прогностическими, если не проективистскими мотивами. Хотя, напомню, метод исторических аналогий не считаю в деле аналитики полностью адекватным... но, в общем, поехали! 

Договор Филиппа с Ганнибалом вызвал страшную тревогу в Риме, ведь практически македонско-карфагенское дружественное соглашение означало намеренье по разделу всего Средиземноморья на сферы влияния: восточная половина отходила к Филиппу, а западная – к Ганнибалу. Риму при таком раскладе места на Земле не оставалось. Уже тогда было известно, что в спешном порядке Филипп снаряжает в Адриатическом море флотилию, которую он предполагал отправить на Сицилию в помощь Ганнибалу. А помимо общеполитических и военных соображений в первую очередь пострадали интересы римской торговли на Адриатике.
Во избежание опасных последствий данного союза римляне мгновенно объявили войну Филиппу. В этой – т.н. Первой Македонской (214-205 гг. до н.э.) – и в последующих войнах дипломатия играла не меньшую роль, чем оружие. Римляне с редким искусством использовали вековую вражду Македонии и Греции с одной стороны, и внутренние противоречия Греции и всего эллинистического мира – с другой.
По мнению Ганнибала: "Могущество Рима состоит не в его военной мощи, а в его способности разъединять противников".
[...]
Параллель: русские с редкой прытью использовали вековое соперничество Британии и континентальной Европы с одной стороны, и внутренние противоречия Евросоюза и всего коллективного Запада – с другой. 
Римляне всегда предпочитали войны силами союзников, а не собственными, не на своей, а на чужой территории. Такой нейтральной стороной, на территории которой и велись бесконечные войны, в изучаемый (республиканский) период являлась Греция.
[...]
Параллель: англосаксы некогда предпочитали войны силами союзников, а не собственными, не на своей, а на чужой территории. Такой нейтральной стороной, на территории которой и велись бесконечные войны, в изучаемый (до XXI столетия) период являлась Россия. Русские теперь предпочитают войны силами союзников, а не собственными, не на своей, а на чужой территории. Такими странами, на территории которых и ведутся войны в изучаемый (новоимперский) период, являются Сирия, Афганистан, Ирак, Йемен, Ливия. Не в последнюю очередь – потому, что именно смещение наиболее острых военных конфликтов, так сказать, в подбрюшье как прямых врагов России, так и сателлитов оных, стратегически и тех, и этих ослабляет. Приближая исторический момент прощального поджопника для всех непрошеных в Большой Евразии гостей.
В первые годы царствования императора Августа обозначились симптомы будущих римско-парфянских конфликтов на реке Евфрат. Яблоком раздора в I веке н.э. послужило буферное государство Армения. В целом армянский вопрос был сложнейшей проблемой во внешней политике Рима на протяжении всего периода Империи. В Армении боролись две партии – римская и парфянская. Большая часть аристократических родов страны была ориентирована в сторону парфян. Однако уже при Августе и Тиберии римская партия возобладала, и Армения превратилась в фактически зависимое от Рима государство.
[...]
Параллель: уже в первые годы правления Путина обозначились симптомы будущего обострения (очередного!) в отношениях России и Европы. Линия разлома пролегла по реке Днепр, яблоком раздора в XXI веке послужило буферное государство "Украина". В целом украинский вопрос был наиболее щепетильной проблемой в российской внешней политике на этапе становления Новой Российской Империи. На "Украинушке" боролись исключительно две партии условных шлюхозавров – пророссийская да проевропейская (и прозападная, если шире). И хотя под занавес 2010-х годов преобладающая часть олигархических группировок этой выморочной территории ориентировалась на безвиз и кружевные трусики, подобно динозаврам в свое время шлюхозавры стали понемножку вымирать. Благодаря чему к моменту истечения первой шестилетней каденции путинского преемника "русская" партия уже доминировала, а "Украина" превратилась в фактически зависимое от России государство. Без какой-либо надежды на повторную инкорпорацию в ближайшем обозримом будущем, отметим...

Византию середины I тысячелетия н.э. окружали беспокойные, находившиеся в постоянном движении племена, к которым применялось общее название "варвары". Византийцы тщательно собирали и записывали сведения о варварских племенах – об их нравах и военных силах, о торгово-политических взаимоотношениях друг с другом, о междоусобицах, о влиятельных людях и возможности их подкупа. На основании тщательно собранных сведений выстраивалась византийская дипломатия – или "наука об управлении варварами" (курсив мой – LM)
В ещё одном источнике XI века, коим является трактат "Сиасет-Намэ", арабский автор Низам-уль-Мульк отмечает то, что государи, обмениваясь послами, преследуют не только явные, но и тайные цели: "Они хотят знать, каково положение дорог, проходов, рек и рвов, и питьевой воды. Может ли войско пройти или нет, где имеется фураж, где не имеется, кто из чинов и где находится, каково снаряжение войска того царя и численность? Каковы угощения и собрания, распорядки чина, сидения и вставания, игр в мяч, охоты? Каков его нрав и жизнь его, благотворительность, око и ухо, повадка и поступок, пожалованья, правосудие? Стар он или молод, учён или невежествен? Разрушаются или процветают его владения? Войско его – довольно или нет? Народ его – богат или беден? Бдителен ли он в делах или беспечен? Визирь его – достоин или нет, религиозен ли, добродетельного ли жития? Являются ли его главнокомандующие опытными и искушенными в делах людьми или нет? Приближенные – учёны, даровиты или нет? Что ненавидят, что любят? Во время питья вина царь общителен и весел или нет? Участлив или безучастен? Склоняется ли более к серьезному или веселому? Предпочитает более находиться среди воинов или женщин?"
[...]
Параллель: Россию на этапе становления НРИ окружали никому в Империи не интересные племена (и это в данном случае не оценочное понятие), к которым применялось общее название "братушки". Спецура, тем не менее, работала. И знала о "братушках" всё. И даже то, что "братушки" не знали сами о себе. Так ковалась новая российская дипломатия – или наука о косвенном управлении ближним предпольем Империи.
Особенно характерной для Венеции была организация посольской службы. Уже с XIII века началось издание ряда постановлений, в которых до мелочи регулировалось поведение и деятельность заграничных представителей республики. По возвращении послы должны были передавать в казну полученные ими подарки. Запрещалось добиваться званий или титулов при иностранных дворах. Послов нельзя было назначить в страны, где у них имелись собственные владения. Запрещалось говорить о государственных делах республики с любыми иностранцами. Послам не разрешалось брать с собой жен – из боязни, чтобы те не разгласили тайн; однако позволялось брать повара, чтобы не быть отравленными. Когда установились постоянные представительства, посол не мог покинуть пост, пока не прибудет его преемник. В день возвращения в Венецию посол обязан был явиться в государственную канцелярию и занести в реестр сообщение о своем прибытии, а также представить отчет о произведенных им расходах. Между прочим, содержание послов было довольно скромным и далеко не соответствовало понесенным ими служебным издержкам. В донесениях послы на это жаловались – и, как утверждал один из них, "неудивительно, что многие граждане предпочитают оставаться в Венеции и жить там частными лицами, нежели отправляться послами в чужие края". Против уклонявшихся от почетной, но обременительной миссии принимались меры в виде штрафов или запрещения занимать какие-либо государственные должности. Послы нередко разорялись на своем посту, впадая в долги, впоследствии выплачиваемые республикой. Впрочем, венецианские власти часто награждали бывших дипломатов назначениями – в частности, выгодными постами в левантийских владениях республики.
Исключение в материальном плане составлял лишь пост байюло в турецком Константинополе – одной из самых ответственных дипломатических миссий.
[...]
Параллель: назрела (где-то даже перезрела, собственно) необходимость передела рынков мира в пользу НРИ. Само собой, что мерами экономического принуждения и где-то даже военной силой - от условных северных потоков до "калибров" животворящих. Россия сосредотачивается. Правящий же класс негласно приглашает тех, кто это понимает в обществе, участвовать в "экспроприации излишков" за пределами страны. Конечно, кто тут на советском воспитании, ну или до конца не перестроился, тот гневно отвергает данную перспективу. А таких со временем всё меньше будет – в силу, скажем так, выбытия по причинам естественным. Но верно и обратное: служилое сословие из тех, кто фигурально в сириях и на донбассах нонче отжимает ранее у русских отжатое, станет в НРИ аналогом российского дворянства досоветского периода. Активов хочется и привилегий? Только пóтом, только кровью...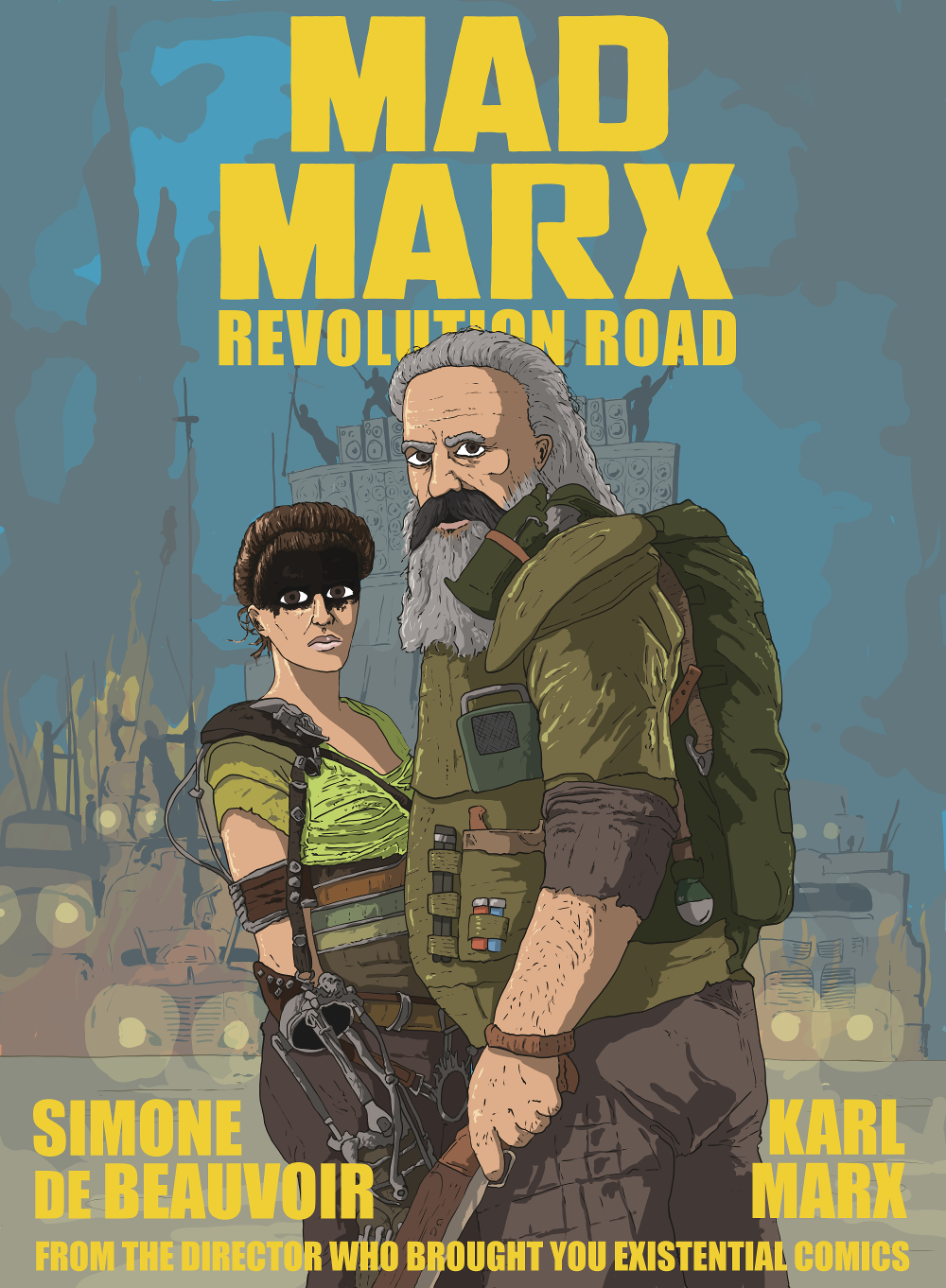
"Начиная с Гоббса, Макиавелли, Спинозы, Бодена и др., – писал Карл Маркс в "Немецкой идеологии" (1846), – сила отражалась в качестве основы права, вследствие чего теоретическое рассмотрение политики освободилось от морали..."
"Следует иметь в виду, – писал Макиавелли в "Государе" (1532), – два рода борьбы: один – посредством законов, другой – силы. Первый свойственен людям, второй – зверям, но поскольку первый часто недостаточен, приходится прибегнуть ко второму. Следует, что государю надо знать приемы и зверей, и человека. А если учиться приемам зверя, то он должен выбрать из числа зверей лису и льва, ибо лев не может защититься от змеи, лиса – от волка. Это значит, надо быть лисой (чтобы распознавать змей) и львом (расправляться с волками)".
[...]
Параллель: подробнее об этом тут.
В XVI веке сэр Генри Уоттон, английский посол во Франции, определял посла как "мужа доброго, отправленного на чужбину, дабы лгать на пользу своей стране".
[...]
Параллель: политическое (Новая Российская Империя) перекликается с географическим (Материк Россия). Русский народ-суперэтнос максимально сконцентрирован и собран, когда в чем-то чувствует себя осажденным в своей цитадели. Как сегодня – я и вы. И чем суровее мы к чужакам, тем нам добрее дóлжно быть друг к другу. Ложь во сбережение своих и наших – а точнее изощренное коварство с этой целью – доблесть. Гибель же своих и наших вне зависимости от причин есть Боль. И есть потеря для всего пока не народившегося Русского Миллиарда. Это, разумеется, не про "фашизм" русских, не про "исключительность". Это вот про что: трагическое утро 22 июня 1941 года никогда не должно повториться. Так сказать, во избежанье – если Родина прикажет – нашими "послами на чужбине" станут те ребята, что на фотках ниже и чуть выше.

В XVIII веке Англия, после двух революций окончательно сформировавшая свой политический строй, ведет политику торгово-колониальной экспансии. Ввиду того, что островное положение оберегает ее от нападений со стороны континента, все усилия были направлены Англией на заморские предприятия – а в Европе ограничивались политическими комбинациями, о которых Бисмарк впоследствии скажет: "Политика Англии всегда заключалась в том, чтобы найти такого дурака в Европе, который своими боками защищал бы английские интересы".
"Самим провидением мне суждено было стать дипломатом, ведь я родился первого апреля", – шутил фон Бисмарк, когда бывал в хорошем расположении духа.
[...]
Параллель: со второй трети XXI века Новая Российская Империя, после окончательного складывания [пусть будет] Новосибирской системы международных отношений, не уподобляется хищникам-англосаксам и ведет политику экспансии строго внутренней. С ее пафосом созидательного труда и духовного самопреодоления. С ее моторикой, направленной на превращение в комфортное для жизни место распоследнего медвежьего угла Империи. При этом НРИ, располагая полным пулом инструментов и возможностей, наращивает совокупные объемы национального богатства в его части, связанной по преимуществу с физическими активами – жильем, дорогами, родильными домами... ну и дальше по ранжиру. Т.е. абсолютно – всем, что нужно, чтобы наши правнуки в один прекрасный день сказали: "Вот теперь у нас в том, что касается презренного быта, есть всё. Но главное, что есть – Мечта. Мечта о счастье. И Большая Русская Мечта… о несвободе. Ибо нету ничего, что б связывало больше по рукам и по ногам, что б делало нас более зависимыми от других людей, чем самое простое человеческое счастье".

Международным успехам России способствовало и наличие выдающихся дипломатов – одним из них был знаменитый Андрей Иванович Остерман, зачавший свою карьеру при Петре I в качестве одного из участников мирных переговоров со Шведским королевством; это его настойчивости и ловкости Россия была обязана блестящим Ништадтским миром. Опыт и природные дарования выработали в нем исключительные дипломатические качества. "Часто, – как пишет Манштейн, – иностранные министры, в течение двух часов проговорившие с ним, по выходе из его кабинета знают не больше того, сколько знали, входя туда. Что он ни писал, ни говорил, могло быть понято двояко. Тонкий и притворный, он умел владеть страстями, даже в случае нужды разнежиться до слез. Никогда и никому он не смотрел в глаза из страха, что глаза ему изменят, он умел держать их неподвижно". Говорили, что у Остермана проявлялась подагра в руке всякий раз, когда надо было подписать опасную бумагу.
У Петра Великого имелись собственные принципы международной политики. Основным его правилом была политическая добросовестность и верность обязательствам: "Лучше можно видеть, – он писал, – что от союзников оставлены мы будем, нежели их оставим, ибо гонор пароля [честь данного слова] дражае всего есть".
Сила внешней политики Петра заключалась в том, что он не разбрасывался, а сосредоточивался на одной из проблем – ей и подчинял усилия всей дипломатии, отказываясь от других, не стоявших остро.
[...]
Параллель: "Могущество Рима-Русского эпохи Новой Российской Империи заключается не столько в его военной мощи, сколько в тотальности его политики, что выражается способностью эту мощь концентрировать в нужное время и в нужном месте. Обходиться малой кровью, малыми деньгами. Бить умением, а не числом. Ведь русский – значит эффективный".
Всё внимание российской дипломатии, руководимой непосредственно самой Екатериной и всесильным Потемкиным, отныне направлено было на разрешение турецкой проблемы и осуществление т.н. "греческого проекта". Речь велась уже не о территориальных приобретениях за счет Османской империи, а о полном изгнании турок с европейского континента и восстановлении Греческой (Византийской) империи, корона которой предназначалась внуку императрицы Константину Павловичу. Из Молдавии и Валахии предполагалось образовать буферное государство Дакию; Австрия со своей стороны должна была получить западную часть Балканского полуострова. "Царьград в качестве третьей российской столицы, – говорил Энгельс, – наряду с Москвой и Петербургом означал бы не только полное моральное господство над восточно-христианским миром, это был бы решительный шаг к господству над Европой". И к этому шагу русская дипломатия готовилась исподволь.
[...]
Параллель: Российская Империя разрушила себя, погнавшись за фантазмом византийского наследства. Новая Российская Империя с ее зрелым "Roman State of Mind" не будет гнаться за фантазмами РИ и СССР 2.0, поскольку отдает себе отчет, что нету "святых мест" – ни иерусалимов, ни римов, ни киевов, ни даже драпируемых мавзолеев – вне пределов Настоящего (а не прошлого) и вне границ Империи. "Не нужен мне берег турецкий // и Африка мне не нужна". А святость – категория духа, но никак не географии и политики.
Впервые приехав во Францию в 1767 году как частное лицо, Франклин сменил свой скромный провинциальный квакерский костюм на модный кафтан и даже надел напудренный парик. "Подумайте только, – писал он, – какой у меня вид с маленькой косичкой и открытыми ушами". В следующий свой приезд в 1776 году он был уже послом Американской республики, но продолжал ходить в довольно скромном коричневом кафтане; волосы были гладко причесаны, парик сменила шапка из куньего меха. Но симпатии передовых кругов французского общества к американской демократии были так сильны, популярность Вениамина Франклина так велика, что ему не только простили его эксцентричность, но и сделали его образцом моды. Парижские франты снимали парики, а парикмахеры изобрели прическу а-ля Франклин. Бюсты и портреты Франклина были на буфетах и витринах магазинов и кафе. Его изображения встречались в медальонах, на кольцах, тросточках и табакерках. Если, приехав в Париж в первый раз, Франклин подчинился парижской моде, то в следующий приезд он стал ее законодателем.
[...]
Параллель:
Главная задача французской дипломатии периода Директории заключалась в наиболее выгодном использовании военных побед и в создании вдоль восточных границ Республики пояса полузависимых государств, которые обеспечивали бы господство Франции над Центральной Европой и Италией. К 1799 году этих государств было создано шесть – республики Батавская, Гельветическая, Лигурийская, Римская, Партенопейская и Цизальпинская.
[...]
Параллель: главная задача русской дипломатии периода Новой Империи заключалась в наиболее выгодном использовании военных побед и в создании вдоль своих границ пояса дружественных / буферных / опорных государств, которые обеспечивали бы стратегический баланс интересов России в Большой Евразии. К 2017 году среди этих государств были следующие – Приднестровье, Абхазия, РЮО, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Армения / Арцах / Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Монголия, Иран, частично или косвенно: Сирийская Арабская Республика, Ирак, Израиль, Турция, Египет, Греция, Молдова, Сербия, КНДР и Грузия. К 2030 году перечень пополнится Японией, объединенной Кореей, Финляндией, Туркменистаном, прибалтийскими "вымиратами", Диким Полем, Венгрией, Словакией, Болгарией, Македонией, Черногорией, Кипром, Ливией, Италией. Шпицберген и Аляска вновь окажутся в русской сфере влияния плюс положительно разрешится вопрос имперского мореходства в таких чувствительных точках, как датские проливы, Гибралтар, Суэц, Баб-эль-Мандеб и Сингапур (при этом три последних, скажем так, – в формате военно-политического и торгово-экономического сотрудничества НРИ с КНР). Никакого шапкозакидательства. Не нужно "жмущих треуголок". Просто наиболее желательный вектор новоимперской внешней политики.

Сознание военного превосходства придавало тону французских дипломатов резкость, грубость и оттенок насилия. Бонапарт обнаружил замечательные дарования дипломата. Но для ведения переговоров и ему не доставало выдержки, спокойствия. Им порой овладевали приступы дикого гнева. Так, в 1797 году во время переговоров о мире с австрийским уполномоченным Кобенцлем в Кампо-Формио он в ярости кричал ему: "Ваша империя – старая распутница, которая привыкла, чтобы ее все насиловали..." Схватив драгоценный фарфоровый сервиз, подаренный Кобенцлю императрицей Екатериной II, он в бешенстве разбил его об пол.
[...]
Параллель: Наше с вами (т.е. каждого) собачье дело – в том, чтоб Новая Российская Империя никогда б не постарела, ни обрюзгла, не подставилась. Наше с вами дело - всегда быть чуточку "андердогами".
К возможности союза Павел I относился сочувственно. Он лелеял план похода соединенной франко-русской армии на Индию, уже распорядившись о выступлении в Среднюю Азию казачьих частей численностью в 24 тысячи человек – для разведки путей на Индию. В дипломатических кругах Европы с беспокойством наблюдали за сближением двух сильнейших держав континента. Император Австрии не только устно, даже письменно заявлял, что уповает на возможную "недолговечность" Павла I и Бонапарта. Более всего тревожились английские политики. Первым, кто стал задумываться о способах устранения российского царя, был Уитворт, английский посол в Петербурге. С этой целью он завел через светскую даму Ольгу Александровну Жеребцову тайные сношения с ее братом, графом Платоном Зубовым, а также с Никитой Паниным и прочими участниками заговора, кончившегося убийством Павла.
[...]
Параллель: патрон-клиентская модель кадровых процессов в современной России (проще выражаясь, блат!) взамен гораздо более красивой, справедливой, прогрессивной и эффективной по нынешним меркам сталинской номенклатурной меритократии – не от хорошей жизни. Правящему классу, чтобы отстоять нашу осажденную крепость (Россия) в период нынешней глобальной турбулентности, намного проще не болтать о "социальных лифтах" и не брать на большинство позиций "сыновей кухарок" "с улицы", какими бы "талантливыми" ни были. Талантам и потенциям общественных низов, по мысли правящего класса, дóлжно подкрепляться политическим цинизмом этих же низов. Типа: хочешь жить – живи, а хочешь править – правь... в противном случае пардону просим. Вообще о невозможности СССР 2.0, так скажем, в силу невозможности для нынешней России эгалитаризма поговорим в одном из следующих постов.
21 марта 1804 года во рву Венсеннского замка был расстрелян схваченный по приказу Наполеона на территории Бадена герцог Энгиенский, член французской королевской династии Бурбонов. Без всяких оснований и без малейших улик ему было предъявлено обвинение в соучастии заговору роялиста Кадудаля против Наполеона. Поступок Бонапарта возбудил смятение, негодование при всех монархических дворах Европы. Однако никто не осмелился выступить с каким-либо протестом. Только Александр I, уже решивший воевать и вместе с тем убежденный в будущей победе формируемой коалиции над Бонапартом, послал ему ноту протеста. Наполеон через Талейрана ответил, что если бы император Александр, узнав о местонахождении убийц императора Павла на чужой территории, пожелал их арестовать, то Бонапарт не протестовал бы. Оскорбление было ужасающим и притом публичным. Наполеон вслух высказал то, о чем лишь до сих пор шептались при дворах Европы – дескать, Александр не только знал о заговоре против Павла, но и принимал в нем прямое участие.
Личное оскорбление укрепило царя в его решимости воевать с Наполеоном.
[...]
Параллель: "Вами управляет тот, кто вас злит" (Лао-Цзы).
Наполеон рассчитывал и на поддержку Турции, находившейся с Россией в состояние войны, и Швеции, которой правил в качестве наследного принца бывший наполеоновский маршал Карл Бернадотт.
Но Кутузов, оказавшийся не только замечательным стратегом, но и дипломатом, успел как раз накануне войны – в мае 1812 года – заключить с Турцией очень выгодный для России мир, искусно доведя до паники великого визиря. Узнав об этом внезапном замирении России с Турцией, Наполеон воскликнул в бешенстве, что он не знал доселе, какие болваны управляют Турцией.
Что касается Швеции, то Бернадотту было сделано два предложения. Наполеон предлагал Финляндию (отобранную русскими у шведов в 1809 году – прим. LM) в том случае, если Швеция выступит против России, а Александр – Норвегию, если Швеция выступит против Наполеона. Взвесив оба предложения, Бернадотт склонился на сторону Александра не только потому, что Норвегия богаче Финляндии, но и потому, что Швецию от Франции ограждало море, а от России – ничто. Наполеон впоследствии говорил, что ему следовало отказаться от войны с Россией уже в тот момент, когда он узнал, что ни Турция, ни Швеция воевать с Россией не будут.
Тотчас после начала войны союз с Александром заключила и Англия.
[...]
Параллель: будущий президент США, а в тот момент сенатор Гарри Трумэн в интервью газете The New York Times от 24 июня 1941 года: "Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и пусть они, таким образом, убивают друг друга как можно больше..." 
Точка зрения Кутузова заключалась в том, что, начавшись на Немане, война должна и закончиться там же. Как только на русской земле не останется вооруженного врага, следует остановиться. Незачем крушить Наполеона – это принесет больше пользы не России, но Англии. Если б этот "проклятый остров" (так Кутузов называл Англию) вовсе провалился сквозь землю, это было бы лучше всего. Александр напротив считал, что дело расплаты с Наполеоном лишь начинается. И Англия изо всех сил поддерживала царя в его стремлениях. После поражения французской армии в России русская армия форсировала Неман, а затем и Вислу.
[...]
Параллель: что ж, русские – хорошие ученики. Таскать каштаны из огня для третьих лиц (и стран) Империя больше не собирается. 
"Нет страны еще на свете, которая бы так мало проигрывала от войн, как Англия!" – восхищался английский премьер-министр Пальмерстон*.
* В период Крымской войны с Россией (1853-1856 гг.)
[...]
Параллель: "Нет страны еще на свете, которая бы проигрывала так мало войн, как Россия", – сдержанно констатировал заштатный "политолух" Андрей Лав-Марков, в 2017 году предвосхищая ближайшее будущее. Добавляя: "Еще большее число их на своем веку предотвратив..."







Комментарии
Всем доброй тяпницы! :)
Весьма рекомендую "Памятники дипломатических сношений".
Вроде ищутся в сети достаточно легко.
Параллели находятся даже проще.
"Нам в настоящем надо знать прошлое, чтобы жить в будущем." (с)
спасибо, что поделились
мне понравилось
благодарю Вас! в общую копилку представлений